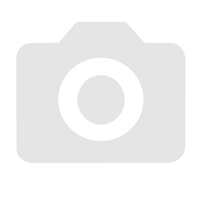Это интервью — как исповедь человека, который больше не боится ни себя, ни читателя. Его герои любят тех, кого не положено, спят с теми, с кем «нельзя», предают не из под...
.webp)
Как писатель Алексей Небоходов — фигура в литературе не просто одиозная, а отстранённо молчаливая, что, впрочем, куда громче крика. Последние годы он провёл в горах Черногории — добровольное изгнание, где вместо премий и подиумов ему ближе тишина, которая «умнее большинства людей», как он сам сухо заметил.
Именно оттуда, из своего внутреннего скита, нам удалось выдернуть его на связь — чтобы поговорить с нами о самом неудобном: о свободе, которая рвёт, как проволока; о совести, от которой не сбежать даже во сне; о любви — не голливудской, а той, что пахнет потом, болью и абсолютной правдой.
— Алексей, Вы в своих романах часто исследуете двойную мораль, манипуляции и циничность общества. Скажите честно, вы пишете о том, с чем сталкиваетесь лично на посту главного редактора The Moscow Post, или используете свои книги, чтобы замаскировать собственное участие в играх, которые так яростно критикуете?
Что вы. Мне очень далеко до тех героев о которых пишет The Moscow Post. Там такие манипуляции на государственном уровне, что даже Остапу Бендеру в самых лучших его снах не снились.
Я — всего лишь наблюдатель, и, если угодно, свидетель. И, возможно, единственный, кто имеет право смеяться в лицо этому абсурду, потому что не играет ни в одну из партий. Мои книги — это не попытка спрятаться, это, наоборот, акт разоблачения.
Вы видите сатиру — я вижу хронику. Вы думаете, что это гипербола, а я просто описываю то, что вижу, только под другим углом. Иногда единственный способ сказать правду — это не поднимать голос, а перевести всё в художественную плоскость.
Да и давайте честно: в стране, где реальность сама по себе выглядит как роман в жанре политической фантасмагории, писатель — скорее стенографист, чем провокатор.
— Ваши книги отличаются глубоким психологизмом и сложными персонажами. С кем из своих героев вы бы согласились прожить хотя бы неделю под одной крышей, а с кем не выдержали бы и одного дня?
— Если как сосед по квартире — то, пожалуй, я бы не выдержал ни дня с Кириллом Говоровым из «Все пути ведут в «нигде». Этот человек настолько погружён в собственную философию. Он обязательно будет деконструировать реальность даже в булке с маком. Впрочем, в литературе он мне интересен. Но в быту — нет, увольте.
А вот с кем бы я с удовольствием прожил неделю — так это с Варварой из «Трамвая отчаяния». В ней живёт особое сочетание тревожной чувствительности и стойкости. Она привыкла держать всё под контролем, но, столкнувшись с иррациональным, не ломается, а идёт дальше — не потому, что не боится, а потому что не может иначе. С ней можно было бы просто сидеть у окна в её сталинской квартире, слушать, как за стеклом скрипят трамвайные рельсы, молчать о важном. Это человек, который умеет быть сильным — без громких слов и поз.
— В ваших сюжетах часто переплетаются мистика и реализм. Что пугает лично вас сильнее: мистические явления или суровая бытовая действительность?
— Знаете. Я всегда говорю - не бойтесь потустороннего и призраков. Реальные упырки все всегда опасней. Настоящий ужас живёт не в мистике и не в снах, он прямо здесь, рядом с нами: в коридорах чиновничьих кабинетов, на кухнях коммуналок и за дверями дорогих офисов. Мистика пугает своей неопределённостью, но она по ту сторону. А бытовая жестокость, цинизм, предательство, те самые реальные «упырки» — они куда страшнее, потому что от них не спрячешься, не отгородишься, их не сгонишь свечкой или крестом. От них нельзя проснуться, отряхнуться и идти дальше. Они и есть та суровая реальность, которая безжалостно ломает людей, часто даже не замечая этого. В конце концов, любой мистический кошмар заканчивается на рассвете, а бытовой ад продолжается, когда солнце уже давно встало. Вот это действительно страшно.
— Можете ли вы назвать одну книгу, которую хотели бы написать, но боитесь, что она вызовет скандал или негативную реакцию у близких вам людей?
— Я именно такую книгу сейчас пишу. Она называется «Точка после нельзя». Первые главы можно уже почитать на литературных онлайн-сервисах. Это, пожалуй, моя самая смелая и болезненная работа. Там я исследую границы человеческой морали, эмоциональной близости и ответственности за человека, который полностью зависит от тебя и без которого твоя собственная жизнь теряет смысл. Это книга о любви, о которой нельзя говорить вслух, нельзя признавать даже себе, и уж точно нельзя получить на неё одобрение или благословение от общества. «Точка после нельзя» — это история, где грань между состраданием и запретным влечением так тонка, что любая попытка оправдания становится бессмысленной. Но именно в этой книге я пытаюсь честно показать, как порой непредсказуемо и болезненно могут переплетаться мораль и чувства, забота и любовь, и как сложно сохранить себя, переступив черту, после которой все точки уже поставлены.
— Вы часто пишете о любви, раскрывая её с самых неожиданных сторон. Какая из ваших историй любви больше всего похожа на ваш собственный личный опыт?
— Вы тут не совсем точны. Скорее я начинал с книг о любви. Но если сравнивать с моей личной историей, то это рассказ «Любовь начинается в метро». Нет в моей истории не было конечно учительницы. Но как-то раз году, наверное, 1999–2000 я ехал поздно вечером в метро. В вагон вошла пьяна девушка. Села рядом со мной, и заснула, положив мне голову на плечо. Дальнейшее развивалось как моем рассказе. С той лишь разницей, что она не была учительницей, а я учеником, мне уже было за 30.
Это был совершенно сюрреалистический эпизод, похожий скорее на сцену из кино, чем на реальную жизнь. Девушка спала на моём плече, а я ехал и думал: что вообще делать дальше? Разбудить, уйти или дать возможность доехать до конечной? В итоге я её осторожно разбудил, и мы разговорились. Она была совершенно обычной — немного потерянной и уставшей от жизни, а я — усталый журналист, у которого в то время каждый день был похож на предыдущий. Мы почти сразу решили продолжить знакомство у меня дома, потому что оба почувствовали какую-то необъяснимую близость.
Этот случайный эпизод стал для меня напоминанием о том, что любовь не обязательно про долгие годы и совместные планы — иногда это просто внезапное человеческое тепло и доверие, возникшее между совершенно незнакомыми людьми. Именно эта хрупкость момента, эта непредсказуемость и стала основой моего рассказа «Любовь начинается в метро». Так что, хоть я и не был учеником, а она — учительницей, в остальном это самая честная из моих историй любви, потому что она действительно была моей собственной.
— Есть ли тема, которую вы считаете табуированной для литературы, или же искусство не знает запретов?
— Настоящая литература должна говорить обо всём, иначе это уже не литература, а цензура, компромисс с самим собой. Я уверен, что нет запретных тем, есть лишь форма подачи. Можно писать на самую болезненную тему — и сделать это тонко, ярко, глубоко. И наоборот, самую невинную вещь подать так, что станет тошно. Проблема не в темах, а в людях, которые хотят их ограничить, часто просто из-за собственного страха или предрассудков. Закон же, пытаясь кого-то защитить, чаще всего просто создаёт зону табу, где зреет лицемерие и двойная мораль.
— Как вы относитесь к утверждению, что каждый писатель хотя бы раз должен попробовать написать эротическую прозу, чтобы проверить, насколько он честен сам с собой?
— Помните, как у Булгакова «Бывал, бывал и не раз». Дело в другом. Можно писать на уровне порно, где простите за пошлость сперма летит во все стороны, а можно на ином уровне. Ведь даже в сексе к «этому вопросу» многие подходят по-разному. Кто-то занимается сексом на уровне чистой физиологии, а кто-то чуть повыше. Вот это «чуть повыше» как раз и интересует меня как писателя. Там, где заканчивается тело и начинается человек. Где прикосновения имеют вес, где взгляд значит больше, чем сама сцена. Мне важна та грань, на которой эротика перестаёт быть просто описанием и становится способом вскрыть суть героев — их страхи, слабости, потребность в принятии, в близости, которую они не могут выразить иначе. Эротика — это ведь не про «что» происходит, а про «зачем». Поэтому да, я считаю, что каждый писатель должен хотя бы раз туда заглянуть. Но не чтобы проверить себя на смелость, а чтобы понять, где у него болит.
— Вы бы согласились, чтобы Ваш мозг был оцифрован, как в вашей книге «Экспансия на позавчера», если бы это означало ваше вечное существование в цифровом виде?
— Смотря для каких целей. Если просто сохранять сознание в «банке» — нет, в этом я не вижу смысла. Бессмертие ради бессмертия — это же тюрьма. А вот если речь идёт о возможности участия в чём-то большем, например, в продолжении диалога с потомками, в передаче опыта, в участии в развитии человечества, — тогда да, возможно. При одном условии: чтобы я оставался собой. С болью, с сомнениями, с правом ошибаться. Без этого вечное существование превращается в симулятор, а я не играю в симуляторы — я пишу о жизни.
— Представьте, что вам предлагают снять фильм по любой вашей книге, но с условием, что вы должны сыграть самого неприятного персонажа. Кого выберете и почему?
— Наверное Артема из «Клетки от совести». Потому что в нём удивительным образом сочетается то, что я сам в себе не люблю, — трусость, приспособленчество, умение всё рационализировать, пока не останется ничего живого. Он не злодей в классическом смысле, но именно это делает его страшнее. Он похож на тех, кто живёт рядом, улыбается, делает карьеру, соблюдает приличия — и при этом способен предать без колебаний, просто потому что «так проще».
Но вместе с тем в Артёме много человечности. Он не аморален — он запутан. Он не проснулся с желанием причинять зло, он просто шаг за шагом выбирал удобное и безопасное. И в этом — его трагедия. Сыграть его — значит честно заглянуть в тень собственной натуры. Это было бы болезненно. А значит — по-настоящему интересно.
— В романе «Лея Салье» главная героиня сталкивается с множеством внутренних противоречий. Есть ли в вас самом что-то от Леи, и какие внутренние конфликты вы с ней разделяете?
— Во-первых, Лея, или Лена — девушка, и, соответственно, у неё внутренние противоречия чисто женские. Этот образ я списывал с вполне реальных людей. Но, конечно, в любой прописанной героине — особенно в такой, как Лея есть отражение чего-то личного. Я, как и она, знаю, что такое жить между двумя полюсами: стремлением к свету и тягой к самоуничтожению. Лея всё время балансирует между тем, чтобы быть нужной — и быть свободной. Между тем, чтобы спасать — и самим желанием быть спасённой. Мне это очень близко. Пожалуй, наш общий внутренний конфликт — это страх утратить себя, пытаясь угодить чужим ожиданиям. И одновременно — невозможность быть полностью равнодушным к этим ожиданиям. Именно в этом поле напряжения, на мой взгляд, рождается подлинная честность.
— В книге «Клетка от Совести» вы описали довольно жёсткую концепцию наказания за проступки, которые совершались даже в мыслях. Как думаете, вы бы оказались в такой клетке, если бы мир был устроен так же, как в вашем романе?
— Если вы помните, каждый из персонажей оказался в этой условной «клетке», за какие-то конкретные проступки. Полагаю, что у каждого человека в жизни были действия за которые ему стыдно. Так, что любой из нас мог бы оказать в этой «клетке». Я не исключение. У меня тоже есть поступки, о которых вспоминаешь ночью и хочется отвести взгляд от собственного отражения. И если бы суд происходил не по букве закона, а по внутренней правде — я бы точно не остался в стороне. Мне всегда было важно в этой книге показать: не существует абсолютно чистых. Даже самые благородные иногда совершают вещи, за которые стыдно не перед обществом, а перед самим собой. «Клетка» — это не про преступление, это про совесть, и в этом смысле она универсальна. Вопрос не в том, попал бы ты туда, а в том — смог бы ты признать, за что именно.
— «Клетка от Совести» ставит вопрос о природе справедливости и наказания. А вы бы предпочли жить в обществе, где наказание неотвратимо, или там, где возможна милость, но и шанс избежать наказания?
— Общество в котором наказание на 200% неотвратимо было бы идеальным на мой взгляд. Именно поэтому существует суд Божий. Кого-то он настигает в этой жизни, кого-то там. Но именно потому, что мы не живём в идеальном обществе, нам приходится балансировать между справедливостью и милостью. Человеческий суд несовершенен, потому что мы сами несовершенны. Я бы хотел жить в мире, где наказание неотвратимо, но при этом остаётся место для сострадания — не как снисхождение, а как высшая форма понимания. Иногда человек сам себя наказывает сильнее, чем любой приговор. И вот в такие моменты милость — не оправдание, а шанс не сломать окончательно. Поэтому идеальный порядок — это не только жёсткость закона, но и способность отличить вину от раскаяния.
— Расскажите о самом первом произведении, которое вы написали. Что побудило вас сесть за него, и насколько сегодня вам стыдно или, наоборот, гордо за тот текст?
— Первый свой рассказ я написал в 2001-2002 годах. Он называется «Подснежник». Эту историю я увидел во сне. У меня был тогда очень тяжелый период в жизни. Я целый год сидел в добровольном заключении в своей квартире. Не хотелось даже жить. И вот я увидел сон который стал основой для «Подснежника», и собственно для моего пробуждения тоже. После написания я начал оживать. Затем я долго не возвращался к писательству. Целых 20 лет. Но именно «Подснежник» оказался тем самым внутренним сигналом, что во мне что-то ещё живое. Это не была литература ради славы или карьеры — это была необходимость, почти спасение. Мне не стыдно за этот текст. Наоборот — он честный, и очень личный. Возможно, по технике он далёк от того, как я пишу сейчас, но по сути — он стал тем зерном, из которого потом проросло всё остальное. Я часто думаю: не напиши я его тогда — возможно, не было бы и всех остальных книг. Поэтому «Подснежник» для меня — это не просто первое произведение, это первый шаг обратно к жизни.
— В романе «Ледник» вы создаёте сложную систему реальностей и сновидений. Насколько события романа отражают ваши личные взгляды на природу реальности и подсознания?
— Ледник я тоже начал, как описание одного из моих снов. Потом его забросил. Затем разбирая архивы наткнулся и продолжил. Реальность и подсознание идут всегда рука об руку. Я не верю в их жёсткое разделение. То, что мы называем «сновидением», нередко говорит о нас больше, чем любой анализ. Во сне подсознание не притворяется, не соблюдает социальные роли — оно разговаривает с нами напрямую. В «Леднике» мне было важно показать, как тонка грань между внешним и внутренним, как прошлое продолжает жить в нас, даже если мы его не помним, как судьба может прорываться изнутри — через образ, через чувство, через человека, которого ты «встречаешь» раньше, чем осознаёшь. Для меня это не метафора. Это способ жизни.
— В «Леднике» Макс переживает сильнейшую связь с Анной из прошлого, основанную лишь на снах. Как вы сами относитесь к идее пересечения судеб через пространство и время?
— Они пересекаются постоянно. Я попытался об этом рассказать в других своих книгах, таких как «Сны с черного хода». Иногда это пересечение мы ощущаем как дежавю, иногда — как внезапную привязанность к человеку, которого, казалось бы, не знаешь. Я верю, что у каждого из нас есть внутренняя карта, где точки пересечений с другими — не случайны. В «Леднике» и в «Снах с чёрного хода» я как раз исследую этот странный ритм судьбы, когда прошлое настигает нас в другой форме, под другим именем, но с тем же внутренним содержанием. Эти встречи нельзя объяснить логикой. Но если ты хоть раз чувствовал, что человек перед тобой не новый, а будто «возвращённый», — ты уже знаешь, о чём я.
— В «Леднике» вы используете понятие Хроник Акаши — информационного поля, хранящего все знания и воспоминания человечества. Вы лично верите в существование такого информационного пространства?
— Я не просто верю, я знаю, что оно существует. Потому что сталкивался с этим напрямую. Иногда информация, которая приходит — будь то во сне, в состоянии между сном и бодрствованием, в странном разговоре или даже при взгляде на человека — не может быть результатом логических цепочек или ассоциаций. Она приходит из другого слоя. Из того самого общего поля, в котором записано всё. И доступ к нему есть у каждого, просто мы не всегда умеем его распознавать. «Ледник» — это попытка художественно осмыслить этот опыт. Показать, что память — это не то, что принадлежит только нам. Мы просто подключаемся.
— Роман «Все дороги ведут в «нигде»» начинается с литературного вечера и постепенно переходит в сюрреалистический кошмар, где идеи писателя Кирилла Говорова воплощаются в жизнь совершенно абсурдным образом. Вы когда-нибудь боялись, что ваши собственные идеи могут быть поняты искажённо и стать основой для чего-то, с чем вы категорически не согласны?
— Любая, даже самая чистая и безобидная идея может быть извращена. Например, идея свободы. То, что рождается как стремление к личному выбору и уважению к границам другого, очень легко превращается в произвол и отказ от ответственности. Или идея справедливости — из желания уравновесить добро и зло она в руках определённых людей превращается в месть, репрессию или преследование. Я как автор понимаю: слова могут жить отдельно от меня, особенно если они попадают в уши не тем, кому адресованы. Поэтому «Все дороги ведут в «нигде»» — это и предупреждение, и ирония над собственной профессией. Потому что страшно не то, что тебя не поймут. Страшно, когда поймут, но не туда.
— В романе «Все дороги ведут в «нигде»» создана пугающая картина общества, где фантастические идеи приводят к абсурдной реальности. Неужели свобода, как вы её описываете, всегда ведёт к хаосу?
— Свобода сама по себе — не анархия. Но когда свободу путают с вседозволенностью, начинается деградация. Люди часто воспринимают свободу как возможность «делать, что хочу», забывая, что настоящая свобода — это ещё и способность понимать последствия, брать ответственность и уважать границы других. Государство, да, по сути — форма структурированного насилия. Оно ограничивает, наказывает, регулирует. Но если это насилие хоть как-то направлено на удержание равновесия — мы ещё можем с ним сосуществовать. А если нет — как в романе, — мы получаем общество, где любое, даже светлое намерение, становится уродливым при соприкосновении с человеческой природой. И тогда свобода действительно приводит к хаосу. Но не потому, что она плоха. А потому что она требует зрелости, на которую, увы, не все способны.
— Какой вопрос лучше никогда не задавать Алексею Небоходову, чтобы не нарваться?
— Какие ваши творческие планы. Потому что на него невозможно честно ответить, не скривившись. Либо придётся лгать и изображать уверенность, которой нет, либо расписывать такую кашу из идей, в которой самому страшно заблудиться. Писатель — это не чиновник с пятилеткой. У него не планы, а приступы. Сегодня я хочу написать рассказ о тишине в московском метро, а завтра — роман о женщине, которая спасает мир с помощью вязания. Так что самый безопасный способ не нарваться — просто дождаться книги. Она и будет моим единственным настоящим ответом.
Читать на "Утро Ньюс"